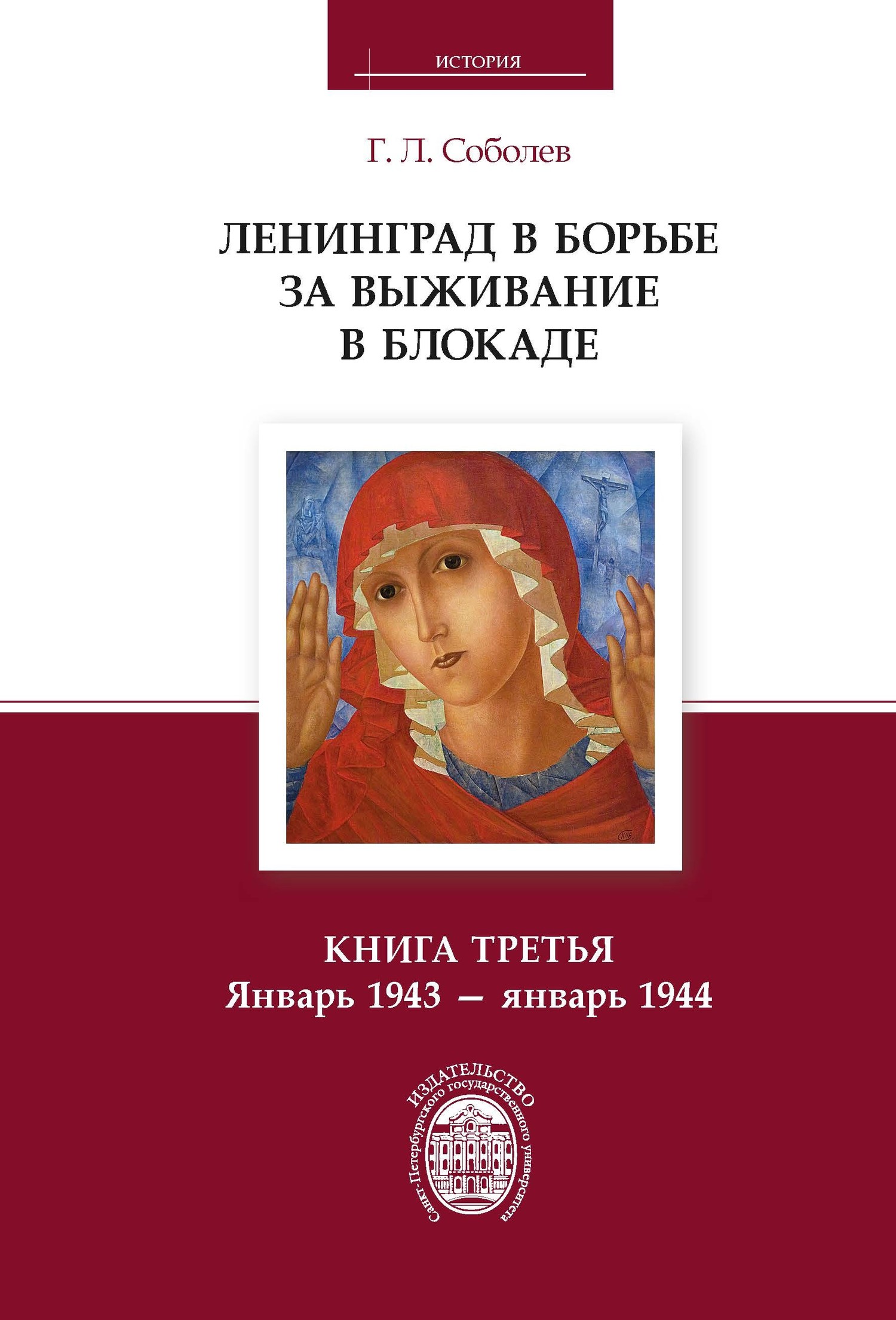Шрифт:
Закладка:
Генка побродил по пляжу, высматривая среди мусора гладкие цветные стеклышки. Смеркалось. Пора было возвращаться. Генка не захватил с собой фонарик, а в темноте в заповеднике можно запросто сломать шею.
Когда Генка вошел в комнату, Глазьев сидел за столом и уныло смотрел то на миллиметровку, то в пикетажки, то на строительную синьку, на которой были помечены подземные коммуникации. Борода стоял у окна, сложив руки на груди. На лице его проступили красные пятна, как бывало всегда, когда Борода злился или сильно нервничал.
Наконец Степа отложил пикетажки, откинулся на спинку стула, грустно посмотрел сначала на Бороду, потом на Генку и начал говорить. Говорил он долго, наверное, час. Генке показалось, что целую вечность. И все, что он говорил, ни Генке, ни Бороде не нравилось. И оба пытались спорить, приводили примеры, настаивали, но все равно выходило, что кругом Генка с Бородой не правы. И что свои северстроевские принципы они должны засунуть куда подальше, иначе «ни в одном приличном месте таких болванов‑романтиков терпеть не станут». И судьба им в дальнейшем — не зарабатывать нормально, а «кормить комаров на дальних от денег болотах». И если накроется вся эта геология вместе со страной, то никакой ДеБирс и никакой Шлюмберже у себя работников, не понимающих строгость и конкретность производственной задачи, не потерпят.
— Вы поймите, чудики, мы денег получим, только если здесь ничего не найдем. Если здесь нет ничего, то и земля что-то стоит, а значит, вложения оправданны. Если же там какое дерьмо античное торчит, то придется привлекать археологов, а это целая история, огромные средства, масса времени. С точки зрения коммерции — вечность. Да и вообще, на это никто не рассчитывал, нет у заказчика на это средств. Не предусмотрены траты на такие развлечения. Наша задача — апробированным методом, без земляных работ, показать, что на участке сохраняется привычная для полуострова структура: клеры, межи, дороги, стенки чертовых виноградников. Не должно тут быть ничего, кроме этих стенок. Никто никогда и ничего не находил, ни на каких картах не отмечал ни подпоручик Строков, ни придурки из Академии наук. В фондах про то ни слова. Потому усвойте: ничего тут искать не надо. От нас открытий не ждут. Мы пришли закрывать, а не открывать. Надо показать пустоту. Усекли? Пустоту!
Генка опять начал спорить, но Степе этот разговор надоел. Он швырнул на стол блокноты.
— Значит, так: завтра все должно быть переписано так, как нужно, полностью по всем профилям. И чтобы без вашего театра, цирка и дурдома. Переписывайте, переделывайте, подгоняйте.
Глазьев ушел, а приятели еще несколько минут молчали.
— Да ну, в задницу, — вдруг выругался Борода. — Поехали по набережной погуляем, тошнит от нашей резервации.
Апрельский Севастополь, отразивший свет фонарей в отмытых к Пасхе окнах. Набережная, томящаяся любовью и желанием. Военный патруль: капитан-лейтенант и два худеньких курсантика с торчащими из-под бескозырок ушами. Девушки, гуляющие парочками под ручку. Ах, как смотрят на них курсантики: «Зачем этот чертов каплей увязался? Утопить бы его прямо тут, в фонтане». Матросик в самоволке, переодетый в гражданку, со смуглым лицом и красной шеей, окантованной аккуратной военной скобочкой. Шпана с семечками. Старики с собаками на поводках, тянущих своих хозяев на запах люля-кебаба.
Они молча прошли по набережной и обратно, сели на троллейбус и вернулись к себе в заповедник. До трех ночи писали цифры в блокнотах.
На следующий день на работу не вышли. Устроили первый за все время здесь выходной. Стирали, ездили в баню. Глазьев появился только к вечеру.
Генка протянул переписанные пикетажки. Тот кивнул и сунул во внутренний карман куртки.
— Ладно, — сказал Степа примирительно, — сегодня, так сказать, сочельник.
— Сочельник перед Рождеством, — хмуро заметил Борода.
— Какая разница, — хохотнул Степа, — вы же меня поняли? Это вот, в качестве компенсации за моральные страдания. И простите, если давеча наговорил всякого. Как-никак, а нынче праздник.
Глазьев снял с плеча рюкзак и приподнял за ручку небольшой пластмассовый бочонок с домашним пино, большим дефицитом в этих местах. Лучше него считалось только качинское каберне.
— Разговляйтесь на здоровье. Христос воскресе!
— Рано еще, — Борода потер лоб. — А впрочем… — Он взял стаканы с подоконника.
Через два часа Степа уже храпел на Генкиной кровати, а приятели переместились на крыльцо: сидели и смотрели в небо. Разговаривать не хотелось. От Владимирского собора доносились голоса певчих. Шла пасхальная служба.
Послышались шаги. Кто-то бежал по дорожке к дому. Тот же долговязый парень, что встречал их на вокзале с мотоциклом, вышел на свет из темноты. Теперь он был облачен в ярко-желтый стихарь, из-под которого виднелись кроссовки.
— Соседи, помочь надо. Сейчас крестный ход, а у нас одни бабки.
Сбиваясь и опять глотая окончания слов, рассказал, что мужики, которые должны были фонарь и хоругвь нести, перепились и не пришли. А крестный ход уже через полчаса. И нужно помочь, потому как ритуал и правила, вообще дело богоугодное и праздник. Он еще кого бы попросил, но только больше ему податься некуда, потому как «наши музейские сегодня не работают».
Генка с Бородой поднялись с крыльца и шагнули в темноту. Парень забегал вперед, оборачивался и умолял идти быстрее. Наконец, рискуя упасть в раскопы, они оказались у входа в собор, освещенного лампочкой, вкрученной в патрон, от которого шел провод к вагончику. Их спутник попросил подождать, перекрестился и скрылся за дверями храма.
— Странно, что внутрь не пригласил, — сказал Генка.
— Мы ему тоже выпить не налили, — заметил Борода.
Парень вернулся через минуту и сообщил, что мужики нашлись, спали здесь же в бытовке.
— Но помощь все равно нужна. Нужно звонить в колокол. Ну, вы знаете, который там висит, — он махнул рукой в сторону берега. — В фильме про Буратино показывали. Поле чудес. Страна дураков.
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)